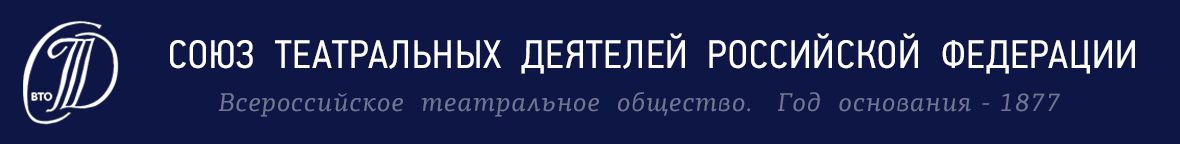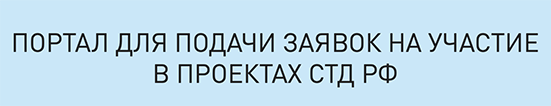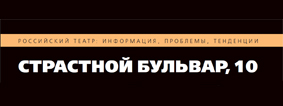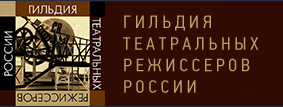Неидеальные люди

Алиса Литвинова
«Три сестры» Антона Чехова, реж. Тимофей Кулябин, Новосибирский театр «Красный факел»
Дом семьи Прозоровых, обесцвеченный сценографом Олегом Головко до мышинно-серого оттенка, представлен на сцене почти целиком, не хватает только кухни и уборной. Он открыто-услужлив, чтобы все было видно и понятно. У него есть объем, но это не череда пространств, выстроенных в линию на авансцене. Он глубок и многокомнатен. Стены отсутствуют, о них напоминают лишь линии на полу. Но это для нас, герои уверены в их непроницаемости и непрозрачности, поэтому спокойно занимаются повседневными делами. Переодеваются. Прячутся от неприятных людей. Работают.
Чтобы никто не заблудился, каждому зрителю дают план помещения с подписанными комнатами и предметами мебели. В глубине сцены небольшая аскетично оформленная прихожая, чуть ближе – спальни, разделенные коридором: слева от него комнаты Чебутыкина и Ирины, справа – Андрея и Ольги. По мере того, как Наташа оккупирует дом, спальни меняют владельцев, как и в пьесе Чехова. Ближе всего – просторная комната, функционально разделенная на столовую (слева) и гостиную (справа), хотя пространство одно, так что деление это очень условно.
В четвертом, последнем акте, правила игры изменяются окончательно. Мебель всех комнат сдвигается к дальней стене и закрывается грязным полиэтиленом, на полу линии-стены останутся, но настоящие рухнут для персонажей. Дом уже никогда не будет таким, каким его знали сестры, он разрушится. Это царство Наташи, которая меняет все под себя.
Несмотря на кажущуюся призрачность и бледность, дом детально проработан и очень вещественен: вот на тумбочке Ольги стоит почетная грамота в рамочке, вот эмалированный тазик под кроватью Андрея, вот из шкафа Ирины торчат уши плюшевого зайца. Остранение пространства проявляется не только в отсутствующих стенах, но и в предметах, наполняющих дом: они из разного времени. Фены и лаки для ногтей сосуществуют с самоваром, компьютеры – с напольными часами. Причем эта хронологическая разобщенность свойственна не только вещам. “Wrecking Ball” Майли Сайрус чередуется с частушками про сени и “Sing it back” Moloko. То же самое и с костюмами: кто в солдатских шинелях чеховских времен, кто в платье фасона 1950х, кто в романтических блузах с рюшами, стилизованных под 1980-е. Дом вырван из контекста времени, он существует в абстрактном театральном пространстве, где вперемешку представлены ХХ и ХХI века. История о надежде на прекрасную жизнь, которая вот-вот наступит, не ограничивается конкретным десяти- или даже столетием, поэтому не важно, в кринолинах сестры или в джинсах, живут они в особняке или в таунхаусе. Кроме того, ненатуралистичный мир позволяет повседневности не превратиться в быт, позволяет спектаклю быть не до конца реалистичным. Оставаться парящим, не опускаться до физиологии. Поэтому, кстати, нет кухни и уборной. Они слишком бытовы.
Пространство спектакля Тимофея Кулябина “Три сестры” не ограничивается возведенной Головко конструкцией. Сквозь отсутствующие стены просматривается грустно-пустующий зрительный зал «Красного факела». Мы пущены в закулисье в буквальном смысле слова, места – на сцене, ближе к заднику, так что только полупрозрачный дом отделяет их от рядов одинаковых бархатных кресел. Открытая театральность, тут никто не скрывает, что это театр. Артисты выходят перед началом акта и уходят после него со спокойным профессионализмом, по-актерски. Иногда они выбегают в антрактах, помогают реквизиторам. Во время действия Елена Дриневская, играющая служанку Анфису, выходит в дверной проем, за которым могла бы быть кухня, совершенно по-актерски садится за стоящий вне подиума стол, на котором сложен реквизит, и ждет своего следующего выхода. То же самое, но в больших масштабах, происходит в четвертом акте: из-за измененных правил, актеры, играющие обитателей дома, не могут разойтись по комнатам. Поэтому они выходят через тот же проем, что Анфиса, и садятся на стулья, появившиеся вместо стола. Теперь это кулиса. Чебутыкин идет туда за медикаментами, чтобы взять их с собой на дуэль, играющий его Андрей Черных берет сумку с лекарствами и ждет нужной реплики Соленого, после которой он выходит на сцену снова в образе доктора.
Необычен не только дом, но и его обитатели. Они – и живущие там, и гости – общаются на жестовом языке. Актеры, несмотря на проделанную работу и месяцы тренировок, поначалу чувствовали себя не очень комфортно, старались дотошно следовать режиссерскому рисунку. Но с течением лет (спектакль поставлен в 2015 году) стали свободнее. Появилось ощущение не просто психологически достоверных образов, а живых героев, которые в порыве чувств могут обнять плачущего друга, уходя в другую комнату, прихватить с собой скрипку или незаметно избавиться от ненужной книжки, которую всучил новый знакомый. Теперь уже не различить наверняка, что – мимолетная импровизация, а что – заранее продуманная деталь.
Образы чеховских героев складываются из калейдоскопа едва заметных мелочей. Наташа только притворилась, что не переживает о замечании про зеленый пояс, на общем фото она смущенно прикрывает его рукой. Вершинину не нравилось быть влюбленным майором, да и сейчас не нравится, но Маша заговорчески подмигивает, и он подтверждает безобидность прозвища. Они же устраивают еще одну шалость: Вершинин аккуратно наливает коньяк в чайную чашку Маше, которая следит, чтобы это осталось тайной. А еще Маша не ест конфеты, сует их всем по карманам. Когда, наконец, пробует одну, то хватается за щеку: зубы болят в первом акте, вот почему она такая раздражительная. Герои кажутся живыми и естественными, потому что они не идеальные, не возвышенно-отстраненные. Они люди. Балующиеся, неловкие, обижающиеся, вспыльчивые и очень-очень настоящие.
Но вернемся к языку жестов. Им объясняются отсутствующие стены: в спектакле персонажи существуют в постоянной открытости для зрителя, ведь даже не зная жестового языка, можно понять настроение героев, а иногда и содержание их разговоров. Чеховский текст идет субтитрами на небольшом экранчике над сценой, он сопровождает все действие, но даже небольшие перебранки в глубине дома, незаметные уточнения, не имеющие прямого отношения к действию и не прописанные в пьесе, понятны. То, что воспринимаемый текст отделен от персонажей, не позволяет им прятаться за словами. Герои оказываются оголены без привычной чеховской мелодики текста, без зафиксированных актерами интонаций. Несмотря на легко считываемые оттенки произнесенных фраз, субтитры звучат в голове ровным, немного торопливым голосом, без криков или шепота. Безэмоциональный смысловой пласт. Лишенные понятной большинству речи, актеры вынуждены преодолевать языковой барьер и передавать те же смыслы в чувственной форме. Ложь, сомнение, удовольствие, счастье – все более отчетливо, чуть экзальтированно и очень искренне. Исчезает традиционная холодность рассуждений и взаимоотношений. Язык жестов, казалось бы, должен был еще больше отдалить персонажей, усилить монологичность и ощущение их глухоты друг к другу, но на практике все получается наоборот, появляется новый уровень чуткости, в том числе и со стороны зрителя.
Умение видеть сквозь стены дает преимущества в понимании характеров персонажей, но лишенные этой способности герои тоже все друг про друга знают. Кричит ли человек на жестовом языке или шепчет, это в равной степени понятно и вблизи, и с большого расстояния. Поэтому Соленый и невзлюбил Тузенбаха. Притаившись за самоваром в дальнем углу комнаты, он с ревнивой настороженностью наблюдает за тем, как барон признается в любви Ирине. Соленый не просто догадывается о существовании соперника, он точно знает. Константин Телегин играет интроверта, который наблюдает за всем со стороны, аутсайдера, которому неприятно только равнодушие Ирины, на остальных все равно. Он влезает в разговоры либо от досады, которую нужно на ком-то сорвать, либо если к нему лезут со всякими глупостями (тут лидером является Наташа), либо чтобы привлечь внимание Ирины, когда она слишком увлечена другими мужчинами.
Герои не могут выразить себя в пространстве с помощью голоса, поэтому интуитивно делают это при помощи звуков, как маленькие дети, когда плачут. В этом они тоже не могут соврать, даже если захотят. Наташа вечно шумит феном, пшикает пульверизатором, пищит игрушками Бобика. Она занята собой, детьми, она проста в восприятии мира, поэтому и кажется сестрам мещанкой. Кулыгин вечно безуспешно пытается привлечь к себе внимание, он – постукивание ножичком по рюмке в доме неслышащих людей.
По звукам можно проследить, как меняются герои. Андрей, поначалу все время игравший на скрипке, постепенно отказывается от этого звука, заменяя его заставкой Windows включаемого компьютера. Буквальное “обмельчание” Андрея, меняющего музыку сфер на зевок ноутбука. Стук связан с Чебутыкиным: он легонько встряхивает коробку с шахматами, барабанит по столу, в третьем акте, напившись, ритмично бросает об пол оторванный от комода ящик, в четвертом – отстукивает палкой “Тарарабумбию”. Энергичный и жизнерадостный поначалу, после смерти пациентки он доходит до эмоционального пика, слома, и это проявляется в постепенном нарастании громкости. К последнему акту он становится сух и безучастен, и лишь тихие, ритмичные постукивания да любимая Ирина могут заставить его улыбаться.
Шорохи, скрипы, шарканье, шуршание, тиканье, звон, цокот каблуков, не прерываемые голосом, складываются в сложную шумовую партитуру. Таким образом тишина становится режиссерским приемом. Бывает, всё неожиданно затихает от неловкости, и только тиканье часов раздается как ирония над штампом с традиционно стрекочущим кузнечиком. Вот сидит Маша, задумчиво грызущая свисток, безучастная к старшей сестре с ее воспоминаниями. Дарья Емельянова ведет сцену, как Ирина Мирошниченко делала это в фильме 1984 года. Ольге обидно, что ее едва слушают, и когда подворачивается случай, она раздраженно бросает: “Не свисти, Маша”. Резко обрывается посторонний шум. Мы слышим мир Прозоровых, поэтому знаем, Маша не свистела. Эта грубость беспочвенна. Но хоть нас и пустили за кулисы, мы все равно вне подиума, вне закрытого сценического мира. Ощущение беспомощности, когда видишь несправедливость, неприятно. Слуху, привыкшему уже к полифонии быта, тоже некомфортно слышать одинокое тиканье. Физическое ощущение дополняет чувственное.
Иногда тишина расставляет акценты, задает ритм спектаклю. Беззвучные сцены, кажется, текут медленнее. Вершинин, которого играет Павел Поляков, начинает свой монолог о невозможности знать лишнее. Все замирают. Резко становится тихо. Он стоит, окруженный новыми знакомыми, которые сидят и слушают его, затаив дыхание. Странная неожиданная тишина, прерываемая лишь часами, приковывает внимание. Не зря же замер весь дом.
Кулябин управляет не только тишиной, он умно, методично, с почти жестокой прямотой выстраивает череду мизансцен, которые действуют на подсознание и восприятие, даже если зритель о них не думает, не расшифровывает. Кулыгин Дениса Франка, суетливый, вызывающий раздражение Маши, усердно привлекающий к себе внимание, при первой же встрече противопоставляется спокойному, вежливому, обаятельному Вершинину, который, ко всем прочим достоинствам, еще и из Москвы. Вершинин произносит свой монолог и все затихают, у него есть авторитет, уважение, все внимание направлено на него. Даже Андрей, которого Илья Музыко играет как интроверта, любителя одиночества и который собирался было уйти к себе, присаживается на угол стола, не отводя взгляда от говорящего. Чтобы сопоставление с Кулыгиным было сильнее, режиссер повторяет мизансцену, помещая мужчин в равные условия. Кулыгин встает на то же место, начинает речь. На него почти не смотрят, изредка поднимают головы, но лишь из вежливости. Пытаясь привлечь внимание, он говорит активнее, быстрее и, взмахнув рукой, сбивает вазу с цветами. Жалкое зрелище. Да и философским рассуждениям полковника учитель может противопоставить лишь цитаты многоуважаемого им директора.
Тимофей Кулябин дает происходящему комментарий, который не заметен для действующих лиц. Сестры стремятся в Москву, потому что верят, что переезда хватит для улучшения жизни. Хватит внешних изменений, работать над собой не нужно, нужно просто подождать, и все станут счастливы. В третьем акте случается пожар, несчастье, которое обходит их стороной, но обостряет ощущение враждебности внешнего мира. Он и так не казался приятным: у Ольги после школы все время болит голова, у Маши надоедливый муж, у Вершинина – сумасшедшая жена, Ирина нервная после работы, Андрей все время проигрывает деньги в карты. При этом мир, на самом деле, совершенно обычный, над сестрами нет злого рока. И знак этого – Ферапонт. Он, в исполнении Сергея Новикова, добрый, наивный, правда не очень умный, является представителем того самого внешнего мира. Он единственный может говорить, он слышит. Ферапонт не принадлежит к замкнутому миру сестер, он пришел извне, и он их не понимает. Буквально. Искренне пытается, с чем связана серия комичных эпизодов, похожих на игру в “крокодила”, но не может. Сестры не приспособлены для мира, или мир не приспособлен для сестер.
В третьем акте дом начинает разваливаться. Он перестает быть собой: комнаты переоборудованы так, чтобы дать приют погорельцам, картины выставлены в коридор, часы разбиты. Ко всему прочему, периодически еще и гаснет свет. Персонажи и пространства, в которых они находятся, то оказываются отрезанными друг от друга из-за темноты, то вновь объединяются под неприятно ярким, почти хирургическим светом. Из-за голубоватых фонариков дом кажется еще более призрачным, чем раньше. И более неуютным: люди, говорящие на языке жестов должны видеть друг друга, чтобы понимать. Подсвеченные телефонами, они кажутся привидениями, бледными и полупрозрачными. Они не могут быть поняты или даже услышаны правильно. При изредка вспыхивающем ярком свете, дом кажется более обнаженным, неожиданно взгляду открываются все уголки, которые во тьме казались тайными.
Уходят навсегда Федотик и Родэ, близкие друзья Тузенбаха и Ирины. Уходит Вершинин, любовь всей жизни Маши. Исчезают последние надежды Ольги когда-нибудь выйти замуж. Ирина перестает верить, что ее ждет великая любовь. Погибает Тузенбах. Под давлением всего этого сестры меняются. И начинают слышать музыку. Вот она, новая жизнь, они есть друг у друга, они обнимаются, они танцуют, они надеются на наконец-то прекрасное будущее. И вдруг музыка прерывается. А они продолжают танцевать. Кулябин позволяет им эту радость, эту веру, но мы понимаем, что ничего не будет. Слишком поздно, слишком травмирующими были для них изменения. Завтра они разъедутся и останутся один на один с миром, который их не понимает. Но пока пусть звучит музыка, хоть мы ее и не слышим.
Фото Фрола Подлесного.
Алиса Литвинова - студентка театроведческого факультета ГИТИСа, курс Анны Степановой.