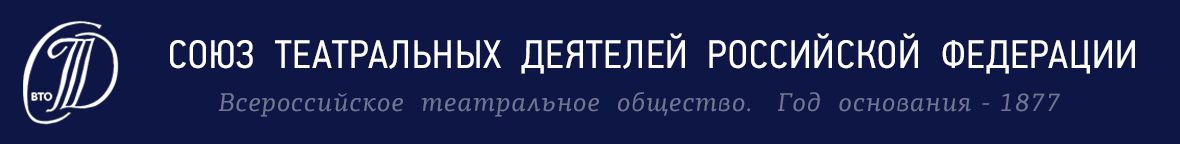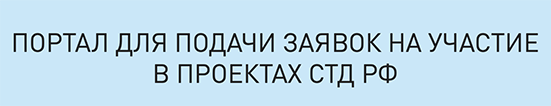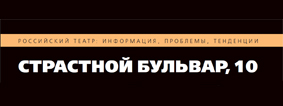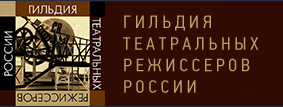Ирина Холмогорова: «Восемь дней в году мы абсолютно свободны»
Андрей Новашов
Беседа с театральным критиком
«Вы стали лучше писать. Конечно, мы не думаем, что это заслуга только нашего семинара», – фраза, которую от Ирины Витальевны слышали многие нестоличные театральные журналисты, приезжавшие и приезжающие на её семинар. Но именно семинар для некоторых, а, пожалуй, для большинства, стал первым серьёзным знакомством с миром театра и театральной критики.
Занятия Холмогорова строит так, чтобы «семинаристы» (так мы в шутку себя называем) учились не только у преподавателя, но и друг у друга. Назову хотя бы нескольких участников прошлых лет: Диляра Хусаинова, много лет работающая завлитом Казанской русской драмы; два саратовских завлита – Ольга Харитонова (Академдрама) и Анастасия Колесникова (ТЮЗ). Рязанский культурный обозреватель Елена Коренева. Старший преподаватель Кемеровского института культуры, кандидат культурологии Алексей Бураченко, который уже сам ведёт авторский курс для журналистов, будущих театральных рецензентов. Вера Сердечная, кандидат филологических наук из Краснодара, Ассоциацией театральных критиков выбранная в этом сезоне в состав экспертного совета «Золотой Маски». Перечисленные и неназванные пишут о спектаклях у себя в городе, публикуются в столичных профессиональных изданиях, организуют театральные фестивали и лаборатории, входят в состав жюри театральных и драматургических конкурсов. Словом, участвуют в формировании театрального ландшафта. И многие именно благодаря встрече с Холмогоровой выбрали главным делом жизни театр.
Ирина Холмогорова окончила театроведческий факультет и аспирантуру ЛГИТМиКа, ныне профессор ВТУ (институт) имени М.С. Щепкина. Автор монографии «Герхарт Гауптман: драма заката» и более ста рецензий и статей, опубликованных в научных сборниках, в журналах «Театр», «Московский наблюдатель», «Петербургский театральный журнал», в «Экране и Сцене». Неоднократно принимала участие в работе фестиваля «Золотая Маска» (дважды была председателем Экспертного совета), несколько лет возглавляла Вологодский фестиваль «Голоса истории», читала лекции по истории русского театра в Германии в Театральной академии г. Ульм.
– Ирина Витальевна, много лет в Щепкинском училище Вы преподаёте актёрам. С кем интереснее: с актёрами или с семинаристами?
– Студенты-актёры и семинар мне интересны равно, и по-разному. Надо сказать, что в больших театральных ВУЗах считается, что для преподавателя истории театра читать лекции актёрскому факультету – это ссылка, что-то вроде Берёзово для Меншикова. Вот театроведы и режиссёры – это да! В Ленинграде, окончив тогдашний ЛГИТМиК и будучи ещё аспиранткой, я немножко читала именно театроведам. Но по-настоящему мой преподавательский опыт формировался в Москве, в Щепке. Мне очень нравилось (и нравится до сих пор) работать с актёрами (а в Щепке и нет другого факультета, кроме актёрского). Правда, лет через пятнадцать мне стало казаться, что сейчас читать театроведам я бы уже не сумела: ведь здесь должна быть совсем другая подача материала. И когда мне в СТД предложили вести семинар у филологов и журналистов, пишущих о театре в разных регионах страны, согласилась с благодарностью сразу. Считала, что это всё же поближе к театроведам, хотела попробовать.
Впрочем, лет десять назад Алексей Вадимович Бартошевич пригласил меня в ГИТИС к себе на кафедру читать театроведам небольшой раздел истории зарубежного театра. Естественно, в два раза объемнее, чем у актёров. Кажется, я с этим справилась. Но, проработав лет семь-восемь ушла – Бартошевич не даст соврать – по собственному желанию. Мне стало скучно. Вероятно, потому, что это были лекции, а не семинары. На семинарах, не сомневаюсь, студенты-театроведы гораздо живее, активнее, эмоциональнее. А на лекциях другая задача – внимательно (как положено!) слушать, прилежно всё записывать, опустив головы в тетрадки. Я же привыкла к диалогу, к вопросам, к эмоциям, пусть иногда наивным. С первого курса разрешаю студентам-актёрам задавать вопросы посреди лекции, а не по окончании. Хотя и после лекции многие задерживаются, чтобы обсудить последние московские спектакли, услышать мнение об исполняемых ими на учебной сцене ролях.
– Всё-таки к тому времени, когда начинался семинар, Вы уже больше двадцати лет преподавали в прославленном ВТУ им. Щепкина, были востребованным рецензентом. Зачем вам провинциальные журналисты и дилетанты в театре?
– Знаете, ведь возникновение таких семинаров – великая заслуга СТД. Союз, озабоченный тем, что в городах России нет театроведов, за много лет до того, как мне предложили вести один из семинаров, их уже проводил. Критиками на местах и тогда, как и сейчас, были и есть в основном филологи, журналисты. Вот СТД и решил преподать этим специалистам некий театроведческий ликбез, подтянуть их к театральной проблематике, даже к театральной терминологии, попытаться дать им в руки некий критический инструментарий. Вели такие семинары в разные времена Анатолий Смелянский, Вера Максимова, Виктор Калиш, Валентина Рыжова – всё известные имена. Сейчас имена тоже известные – Наталья Старосельская, Григорий Заславский…
Зачем семинар мне? Я рада, когда удается сообщить этим людям то, что они раньше не знали. Нравится, как они потом пользуются этими новыми знаниями. Нравится, что узнаю кое-что от них. Ведь семинар – это ещё и обмен знаниями. Будучи филологами и историками, «семинаристы» достаточно образованы, да и знают, в силу своего образования кое-что, чего иногда не знают театроведы. Вот с журналистами сложнее – они стремятся ухватить всё, всюду и сразу, и частенько предлагают читателю/собеседнику свои вполне поверхностные взгляды. Участники нашего семинара нравятся мне еще и по-человечески. Много лет очень везло в этом отношении. Приезжают доброжелательные открытые молодые люди, часто с неплохим вкусом. Благодаря этому возникает дружеская атмосфера – все переписываются друг с другом в течение года, публикуют в своих группах рецензии, обсуждают их, как я знаю, и помимо наших встреч.
– За несколько дней семинара удаётся что-то изменить в человеке?
– За несколько дней, думаю, нет. Во взрослом человеке вообще не очень-то легко что-то изменить. А за четыре-пять семинаров можно, но только не ты его изменяешь, а он меняется сам. Конечно, хочется надеяться, что ты помог ему в этом. И когда видишь, что семинар стал интереснее думать о театре, точнее формулировать свои мысли, – радуешься. Скажу откровенно, самая сложная проблема – не устная, а письменная рецензия и вообще письменный текст. Слишком многое должно сойтись для этого. Большинству, несмотря даже и на филфак за плечами, не хватает театрального контекста, чтобы что-то понять, вспомнить, сравнить, провести аналогии. А еще – структурирование текста… Вкус к родному языку… Как построить фразу, какое слово поставить на первое место, а какое на последнее? Это каждый раз может зависеть от контекста и интонации рецензента по отношению к спектаклю как к целому. Вот у Булгакова в «Мастере и Маргарите» ведь простая штука – в первых же строках фраза: «Пуста была аллея». Порядок слов не очень привычный, но и ничего, вроде бы, особенного, а скажи писатель «Аллея была пуста» – и пропала бы вся особая интонация романа.
– Как участник семинара знаю, что из Ваших семинаров почти никто не хочет уходить.
– Ну, как раз пару лет назад в семинаре появилась новая участница, которая ушла от нас после первой встречи. То ли из-за дороговизны поездки из дальнего города, то ли – просто потому, что не понравилась наша компания. И что? Это её право. Больше до сих пор, правда, никто не уходил, разве что из-за «повышения по службе» или по изменившимся житейским обстоятельствам. Некоторые (и это не один, и не два человека) переезжают в Москву или в Питер, находят там профессиональное применение себе. С ними мы вынуждены (чаще всего, к сожалению) расстаться. При этом есть, разумеется, и неизбежная ротация. Иногда и деньги играют свою неприятную роль. Многие участники семинаров должны самостоятельно оплачивать дорогу. Некоторым это в какой-то момент жизни становится не под силу. Кого-то именно в эти дни не отпускают на работе. Но всё равно средний состав семинара каждый раз 10-12 человек. Почему большинство не хочет уходить? Знаете, однажды я от студентов услышала неожиданную реплику: «мы чувствуем, что мы вам интересны». И это правда. Мне интересны и они, и «семинаристы», с которыми, я вижусь, как легко подсчитать, всего восемь дней в году. Но в эти восемь дней в году мы все абсолютно свободны – от начальников, главных редакторов, худруков и т.д. Мы сами себе и друг другу – читатели, оппоненты, редакторы.
– Но, рассуждая о семинаре, Вы всё же говорите и о том, что чему-то нельзя научить.
– И всё-таки семинар помогает людям, которые иногда и не видят ничего, кроме спектаклей своего города, увидеть что-то другое. Расширяются горизонты, возникает привычка к стилистически совершенно разным спектаклям. Конечно, ещё и интернет очень способствует, но эти нечастые и недешевые поездки тоже. К тому же, участники семинара друг для друга становятся некой малой референтной группой. Их мнения по увиденным спектаклям начинают всё чаще совпадать. И еще: в нашем семинаре, при постоянной вынужденной ротации, практически нет провинциальных людей. Они все из провинции, но они не провинциальны.
– У Вас выработалась какая-то методика работы в семинаре?
– В первую очередь, конечно, обсуждение просмотренных накануне спектаклей. Формы могут быть разными: то образуем «круглый стол», за которым говорится и о спектакле, и об общих театральных проблемах; то выстраиваем сценарий «обсуждения на труппе», с распределением ролей, с репликами актёров, выступлением режиссёра и, конечно, самого критика, которому иногда достаётся. Иногда бывают мои мини-лекции по возникающим в ходе бесед темам. Каждый раз стараемся – особенно в Москве или в Питере (что бывает нечасто) – пригласить на встречу с семинаром кого-то из известных театральных деятелей. И ещё: обсуждение рецензий, обзоров, интервью, написанных участниками семинара для местных, а всё чаще и для столичных изданий. Практика, осуждаемая – и, вроде бы, не без оснований – некоторыми коллегами: «Какой смысл обсуждать уже опубликованное?». Но я вижу в этом смысл. Во-первых, довольно часто попадаются работы законченные, но ещё не опубликованные, и авторы с удовольствием после обсуждения дорабатывают их; а во-вторых, – возникает возможность поговорить об особенностях конкретного жанра, идет совместная «работа над ошибками». Ещё одно – домашние задания: рецензия, обзор, актёрский портрет, интервью. И попытки написать рецензию прямо во время семинара (естественно, ночью) размером в одну страницу.
– Отвлечёмся от семинара. В годы Вашего поступления в ЛГИТМиК на дневное отделение театроведческого факультета у вчерашних школьников даже документы не принимали. Нужен был рабочий стаж. Вы поступили на вечернее отделение, а работать пошли в БДТ. Когда через год Вам предложили перейти на дневное, Вы предпочли остаться на вечернем, чтобы, работая в БДТ, бывать на репетициях Товстоногова. И только, когда через год предложили снова, согласились. Сначала казалось, что репетиции Товстоногова для понимания профессии давали больше, чем институтские лекции?
– В институте у меня были замечательные преподаватели, которые не только сообщали необходимые сведения, но каким-то образом открывали тебе новую картину мира. А в БДТ я узнала театр изнутри, при этом не абы какой, а тот, которым руководил один из крупнейших режиссёров своего времени. Я тогда только закончила десятый класс, и меня в театре поражало всё: закулисная атмосфера, репетиция, задачи, которые Товстоногов ставил перед актёрами, его удивительные формулировки, актёры, предлагавшие что-то своё… И то, как на глазах складывался спектакль… И готовность Товстоногова выслушать! Я помню его интонацию, когда он, хмыкнув (если предложенное ему нравилось), говорил: «Давайте попробуем!». Всё это было другой стороной профессии. Мы тогда получали профессию всюду, где только могли…
– В западно-европейском искусстве выделяют периоды: вот в этот доминировала живопись, в этот – музыка, и так далее. Вы были свидетелем нескольких театральных эпох в СССР и постсоветской России. В какую из этих эпох доминировал театр?
– Во время моей молодости – наверное, конец 50-х и 1960-е годы. Хотя сказать, что доминировал именно театр, не совсем верно. Прорыв был практически во всех видах искусства. Была та самая оттепель, недолгая, но моему поколению крепко запомнившаяся. Большинство из нас до сих пор осознает тогдашнее свое счастье: мы получали своё профессиональное образование именно в эти годы.
– И все-таки театр играл в 1960-е годы огромную роль в жизни общества. Почему?
– На этот вопрос есть уже ставший банальным ответ: театр стал особенно нужен обществу и, в первую очередь, интеллигенции, потому что в эти годы он получил всё же какую-то возможность, пусть минимальную, иносказательно говорить правду. В других видах искусства это было сделать сложнее. В 1962 году Товстоногов, как известно, предпослал своему «Горю от ума» в качестве эпиграфа реплику из письма Пушкина к жене: «…чёрт догадал меня родиться в России с душою и талантом». Был сделан тюлевый занавес, по которому чёрными буквами шла, отбрасывая тень в глубину сцены, эта фраза. Спектакль, однако, вышел без эпиграфа. Власти города, не напрасно шокированные пушкинским «непатриотичным» высказыванием, требовали устранения эпиграфа, угрожали закрытием спектакля. Товстоногов тогда принял всем памятное решение: лучше лишиться эпиграфа, чем спектакля. Ведь спектакль говорил о том же самом, только «без объявления войны». Вспоминаю эту известную историю, потому что она – про иносказание. В 1967 году в Театре сатиры закрыли спектакль Марка Захарова «Доходное место» с Андреем Мироновым в главной роли. И вот там уже обойтись малой кровью было невозможно. В известном смысле, это оказалось одним из знаков конца оттепели.
– Во «Времени секонд хэнд» Светланы Алексиевич одна из героинь рассказывает, что всю жизнь была театралкой, но в 1990-е перестала ходить на спектакли – обнищала, не стало денег на билеты. В этот период действительно произошёл слом?
– Сначала слом произошёл в 1985-м, когда к власти пришел Горбачёв. Я вообще принадлежу к той немногочисленной сегодня категории людей, которая хорошо к нему относится. Горбачёв дал нам почувствовать воздух свободы. В перестроечные годы театр заговорил о том, о чём прежде люди говорили только у себя на кухне. Или жадно считывали со сцены в спектаклях Товстоногова, Эфроса, Любимова, Ефремова, Захарова: одиночество личности, конфликт человека и власти, невозможность свободы… С началом перестройки отпала потребность в иносказаниях. Зачем идти на спектакль и ловить намёки, если по телевизору обо всём скажут прямым текстом? Первым спектаклем, который открыл перестройку в театре, был спектакль Валерия Фокина «Говори!» в Театре им. Ермоловой. Теперь его как-то подзабыли, но тогда о нём шумели чрезвычайно. Потому что: «говори, ты можешь говорить»! Кстати, гениальное начало в «Зеркале» Тарковского – сцена приёма у врача-невролога. Фраза из фильма «Я могу говорить», снятого уже в середине 1970-х, – очень перестроечная. И об этом же был спектакль, который так соответствовал политическому моменту! И был при этом настолько средний по художественному качеству! Не помню деталей, но это было плохо сыграно, да и пьеса – не бог весть. Мне кажется, именно с тех пор многие режиссеры и актёры перестали обращать внимания на «качество» произведения искусства. Главное: успеть сказать.
– Но в 1990-е случился ещё один слом?
– В 1990-е в зрительный зал пришли бизнесмены, страдающие, в большинстве своем, отсутствием культурного контекста, и стали диктовать свои условия, а театр начал к ним подстраиваться. Плюс к этому тогда и теперь ещё не родились новые режиссёры масштаба прежней когорты. И зрители, которые обладали культурным контекстом, от театра стали отходить. Интеллигенция сейчас в театр не очень-то ходит.
– «Мастерская Петра Фоменко» – туда тоже ходили зрители без культурного контекста? Интеллигенция туда не ходила?
– Андрей, нам всем в живом диалоге иногда свойственно преувеличивать. Я не пользуюсь социологическими выводами, не знаю статистики. Конечно, «отдельные представители» интеллигенции и сейчас ходят в театр. И конечно, всегда и всюду бывали «зрители без культурного контекста». И у Фоменко, разумеется, тоже. И тогда, и теперь. Я говорю лишь о тенденциях, какими они мне видятся.
И, кстати: не подумайте, что мне ничего не нравится в современном театре. Я очень люблю Туминаса, мне кажется талантливой личностью Вырыпаев (и не он один из современных), мне интересен Театр.doc и Гоголь-центр, я слежу и за Серебренниковым, и за Богомоловым, хотя не всегда принимаю их спектакли…
– Лет пять назад участники семинара вместе с Вами ходили на спектакль «Гоголь-центра», и перед началом к Вам подошла бывшая студентка Щепкинского. Вы тогда сказали нам, что с третьего курса она ушла на первый к Серебренникову. То театральное образование не совпадало со временем?
– Я не настолько знаю, как сегодня преподают мастерство актёра, чтобы судить об этом. Помню, что эта студентка в Щепкинском подавала надежды. Её ожидала главная роль в дипломном спектакле по роману Достоевского. Уход из Щепки после второго курса она объяснила мне так: «За два года в Щепкинском я получила школу, а дальше хочу совершенствоваться в современном театре». Я боялась, что она уйдёт от нас и провалится там (она ведь поступала заново в Школу-студию МХАТ), но, к счастью, этого не случилось. Сейчас она актриса труппы Серебренникова – Светлана Мамрешева. Я всё это говорю к тому, что школа, безусловно, всегда нужна. Конечно, её надо сочетать с каким-то современным взглядом на профессию, но базовые вещи необходимы, и в этом смысле Станиславского, уверена, никто и не отменяет. Что плохого в предложенной им терминологии? Сверхзадача роли, спектакля, сквозное действие… Это ведь всё остаётся. Просто не обязательно сидеть только на этом.
А вот ещё один вопрос. Почему мы сегодня так много слышим о подражании Западу и об отказе от русского психологического театра? На самом деле, думаю, никакой потери психологического театра нет. И дело совсем не в подражании Западу. Дело в том, что в истории мирового театра всегда существовали периоды каких-то мощных переломов, менявших лицо театра. И тогда оказывалось, что в эпоху Возрождения Шекспир и, допустим, испанцы, никогда не выезжавшие на европейские конференции, писали об одном и то же. Или, к примеру, романтизм – Байрон и Лермонтов.
На рубеже прошлого и позапрошлого веков и в первые два десятилетия ХХ века европейские и русские театральные мыслители начинали сомневаться в том, что всем в театре руководит слово. Выяснялось, что словом гораздо легче соврать, чем телом. И началось переосмысление роли движения, пластики, молчания – и в Европе, и в России. Это нормальное развитие театра – вступление в какой-то новый этап развития. И русский театр был здесь во многом даже впереди. Потому что были не только Станиславский, но – одновременно – Мейерхольд, Вахтангов, Таиров. А дальше в нашей стране всех убили, кроме, к счастью, Станиславского с Немировичем, и в 1940-50-е годы театр превратился в сугубо театр слова, радиотеатр, где не нужно видеть, а нужно слушать текст. Слушать не текст, а подтекст мы учились уже потом, во время оттепели. А сейчас у нас этап – он не вчера возник – некоторого возврата к эпохе первой трети ХХ века, начинания которой были насильственно прерваны. У нас была искусственная задержка развития лет на пятьдесят (если не больше), а потом мы начали нагонять. В эпоху оттепели все, как сумасшедшие, кинулись ставить Брехта, потому что до тех пор Брехта у нас жаловали только как антифашиста и борца за мир (Ленинская премия в 1955 году), но не как создателя «эпического театра», казавшегося русскому театру чем-то совершенно чуждым. Абсурдистские пьесы вообще стало можно ставить только в перестройку. Под Брехта и «театр абсурда» поначалу пытались подкладывать систему Станиславского, и вот это оказалось категорически невозможным. И наш театр постепенно учился играть «абсурд».
Впрочем, теперь и Европа, и Россия от абсурда и Брехта уже немного устали и дистанцировались. Зато нынче Россия осваивает пластический театр, жанр перформанса, спектакля-бродилки и прочее. Старшему (а иногда и не только старшему) поколению это может не нравиться, но это есть и какое-то время будет. Другой вопрос, как это будет развиваться дальше.
– Ваша монография, посвященная Герхарту Гауптману, драматургу, оставшемуся в Германии при нацизме, заставляет задуматься и о конформизме. Большинство работников российских театров отстранились от дела «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова.
– С этим не согласна абсолютно. Это не так. В Москве толпа театральных (и не только) людей была всякий раз, когда объявлялось заседание суда – и в зале, и на улице, перед зданием суда. Напротив, мне кажется, дело «Седьмой студии» пробудило сознание театральной общественности: сбор подписей в интернете, митинги, одиночные пикеты. А история Павла Устинова? И прочие, повторяющиеся? Это же театральная общественность восстала.
– Вчера на семинаре Вы говорили о том, что именно Вам не нравится в сегодняшней театральной критике. Можете рассказать и читателям?
– Сначала о том, что нравится. Нравится высокое качество текста, очень частое ныне. Есть немало критиков, работы которых хорошо написаны. Но это обычно воспевание спектакля. Не всегда, на мой взгляд, обоснованное. А часто бывает, наоборот, невозможно понять, нравится или не нравится автору рецензии сам спектакль. И вот это активно не нравится. Иногда кажется, что отношение к увиденному просто ловко завуалировано. Я не знаю мотивировок такой позиции и не думаю, что это обязательно продиктовано какими-то далеко идущими целями. Иногда просто не хочется обижать создателей спектакля – мотив благороднейший! К тому же резко изменились критерии: те, кто были хорошими актёрами, (а некоторые даже и не слишком хорошими), стали великими, то же с режиссёрами и т.д.
– Почему Вы перестали писать рецензии?
– Ответ – в ответе на предыдущий вопрос. Я стала предпочитать живой обмен мнениями – с друзьями, коллегами, с выпускниками. И, прежде всего – со студентами и семинаристами. Мне нравится спорить с ними, и не просто спорить, а доказывать свою точку зрения, требуя доказательств и от них. Или, наоборот, соглашаться, объясняя – в меру своих возможностей – причину согласия/несогласия. И – не буду скрывать – мне нравится, что им пока ещё нужны моё мнение и мои личные критерии.
Фото из архива семинара.
Андрей Новашов – журналист, Прокопьевск, Кузбасс