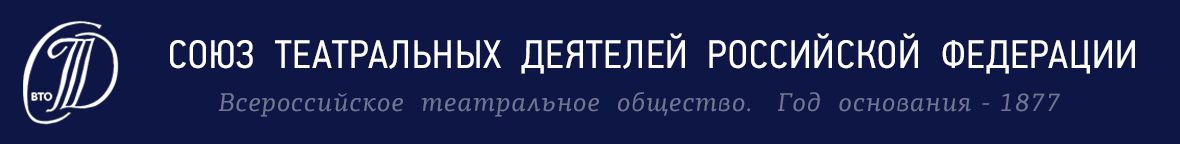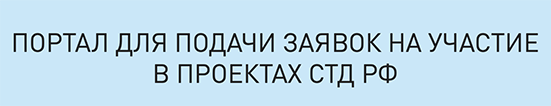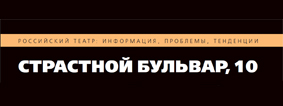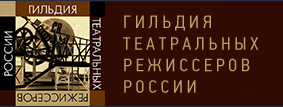Месть Чайки

Анна Кочергина
«Чайка» по Антону Чехову, Астраханский драматический театр, реж. Александр Огарёв
Александр Огарёв любит экстравагантные поджанровые уточнения: «Спасите Лёньку!» – письмо, запечатанное поцелуем, «День города Nь» – три новеллы о сильных чувствах и вот теперь «Чайка» – 80 килограммов любви. В переводе на современную систему мер это те самые пять пудов, про которые писал Чехов Суворину («Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви»). Хотя, пожалуй, куда больше новой постановке Огарёва подошло бы то определение, которое он дал своему «Шуму за сценой», – комедия о театре и его обитателях. С первых же минут «Чайки», когда работники Яковы (их тут аж четверо) ладят сцену для будущего спектакля Кости Треплева, зрителю демонстрируют бутафорскую, фанерную природу этого искусства. А уж после того, как герои появляются каждый в своей маске, сомнений и вовсе не остаётся: перед нами актёры, играющие актёров, которые едят, пьют, носят свои пиджаки.
Если же говорить о комедии, то в спектакле действительно много забавных вещей. Хипстер-Костя, например, гоняет на мотоцикле с люлькой, тюнингованном головой диковинного чудища. (Позже выясняется, что это участник его постановки – «отец вечной материи» дьявол с красными глазами- фарами.) Яковы рассыпаются по залу, как горошины, появляясь в самых неожиданных местах. Правда, порой вызвать зрительский смех пытаются совсем уж безыскусными способами. В результате даже самые психологически тонкие сцены – например, когда Аркадина делает перевязку раненому сыну и тот возвращается в детство, – оставляют в недоумении. Не так-то просто эмоционально подключиться, когда у Треплева над повязкой торчит обнажённый мозг навроде пластмассового пособия из кабинета биологии, а у мамы-Аркадиной буквально «золотые руки». Впрочем, временами сквозь весьма специфический способ существования актёров пробивается что- то живое и настоящее. Особенно это заметно во взаимоотношениях второстепенных персонажей – Маши и Медведенко, Полины Андреевны и Дорна. Пронзительно решена сцена отъезда Аркадиной: Полина Андреевна отчаянно пытается прорваться к той через Шамраева с корзиной слив, словно в последней попытке сбежать от мужа-тирана, «хоть бы в конце жизни не прятаться, не лгать». Однако сосредоточиться на этих драгоценных моментах не удаётся, потому что приходится отвлекаться на посторонние мысли: почему Дорн раздевается до трусов? зачем один из полуграмотных Яковов внезапно декламирует, что нужно по капле выдавливать из себя раба? к чему все эти скандалы из-за лошадей, если в имении есть мотоцикл? На сцене вешается ружьё за ружьём, но ни одно из них так и не выстреливает.
Вызывает вопросы и работа художника. Ирина Бринкус давно плодотворно сотрудничает с Александром Огарёвым, и никогда прежде оформление их спектаклей (по крайней мере, на
астраханской сцене) не казалось столь случайным и необязательным. Излюбленных режиссёром
видеопроекций здесь практически нет – их заменили странноватые картины, то и дело спускающиеся
с колосников. Мункоподобные лица, части человеческого скелета, чьё-то родословное древо – всё
это довольно трудно увязать с происходящим на сцене.
Постановка играется двумя составами, и только увидев спектакль с Аркадиной – Александриной Мерецкой, понимаешь, что именно она задумана здесь главной фигурой. Если героиня Екатерины Спириной не тянет одеяло на себя и в целом держится более скромно и благопристойно, то Аркадина у Мерецкой откровенно солирует. Это пресыщенная, капризная женщина, чья сексуальность граничит с вульгарностью. Вся их линия с Тригориным (сценическим партнёром актрисы стал Кирилл Имеров) по большей части решена именно в физиологическом ключе. Сцена, когда героиня Мерецкой пытается удержать любовника, просто-таки пронизана эротизмом, в то время как в исполнении Спириной в ней превалирует горькое женское отчаянье. Столь же непохожи две Заречные. Нина Елизаветы Смирновой в первом действии наивна и целомудренна. Пытаясь привлечь внимание Тригорина (которого в другом составе в противовес Имерову апатично и вяло играет Пётр Соломонов), она отчаянно кокетничает, но в силу неопытности выглядит при этом угловатым подростком. Нина Марии Дугановой – изящная, миниатюрная стервочка – соблазняет уже со знанием дела. Ощущение, что Тригорин для неё – лишь способ насолить более успешной конкурентке и одновременно пропуск в вожделенный мир богемы.Финал тем не менее у обеих один – чахотка и Елец. Груба жизнь!
Вообще, зависти и соперничества в постановке куда больше, нежели любви. Но если у Чехова противостояние героев разворачивается как в личной, так и в профессиональной сфере, то в спектакле тема творческой реализации оказывается практически не разработанной. Единственный герой пьесы, чья одарённость имеет «документальное подтверждение», – это Тригорин. Когда Треплев цитирует его строчку про блестящее горлышко разбитой бутылки в лунную ночь, становится ясно, что беллетрист не просто «выработал себе приёмы» – он очевидно талантлив.
Вымарывая эти слова, равно как и беспощадную оценку актёрской игры Нины Костей, Огарёв оставляет за рамками постановки вопрос, кто из героев бездарен, а кто нет. Тот же Треплев, которого судорожно и нервно играют Николай Смирнов и Иван Быков, буйствует лишь потому, что у него девушку увели и мама не любит, а вовсе не из-за творческой рефлексии. Выводы о даровитости Заречной зрители могут сделать разве что на основе знаменитого монолога о Мировой душе, в котором угадывается пародия на весь современный театральный авангард разом. Столь же
карикатурно выглядит и вставной музыкальный номер Аркадиной: во время очередного антраша её одолевает одышка (дескать, может, ты и сохранилась, как цыпочка, а всё же возраст берёт своё). Едва наметившись, конфликт новых форм и старой школы оказывается так же высмеян и заброшен, как и остальные.
Когда по ходу действия возникают сомнения в цельности и внятности высказывания, особые чаяния возлагаются на финал, в котором хочется наконец получить ответы на основные вопросы. В заключительной сцене спектакля над застывшими в драматических позах героями кружит гигантская чайка с такими же светящимися, как у дьявола из Костиной пьесы, глазами. Зрителя словно возвращают к изначальной метафоре, и, возможно, сей монстр символизирует жестокого театрального Молоха, требующего всё новых и новых жертв. Но почему-то не оставляет мысль, что на самом деле перед нами воплощение той «Чайки», какой она стала спустя 120 лет и десятки тысяч
постановок, – чудовищно раздувшейся от бесконечных интерпретаций и штампов. Чайки, прилетевшей, чтобы отомстить. Отомстить режиссёрам, которые, взявшись за эту пьесу, не знают, какие бы новые трюки ещё изобрести. Отомстить актёрам, до сих пор играющим её «грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами». Отомстить публике, пришедшей в театр за маленькой и удобопонятной моралью.
Но это, видимо, будет уже совсем другой спектакль.
Фото Екатерины Некрасовой
Анна Кочергина – журналист, кандидат филологических наук, участница лаборатории молодой
критики «Есть мнение!» (Астрахань).