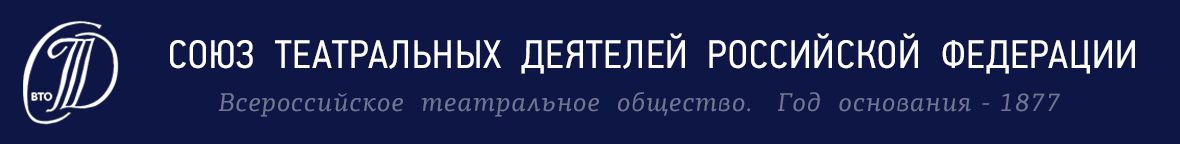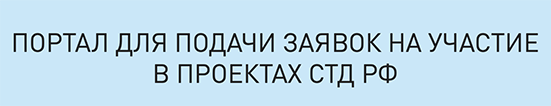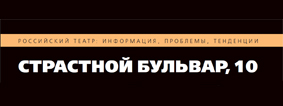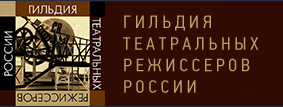Опьянённые идеями

Анна Кочергина
«Братья Карамазовы» по Фёдору Достоевскому, Астраханский драматический театр, реж. Александр Огарёв
«Путешествие в русскую действительность» – таким поджанровым уточнением Александр Огарёв снабдил своих «Братьев Карамазовых». От режиссёра, который называет себя представителем выразительного театра и, кажется, меньше всего хочет вкладывать персты в общественные язвы, это довольно неожиданное заявление. Возможно, таким образом Огарёв пытается соответствовать «давно существующему зрительскому запросу», на который сетовал в одном из интервью: «Подайте нам классику в настоящем, чтобы она была созвучна времени и духовным исканиям наших современников». Впрочем, в новом спектакле он всё-таки не изменяет своей творческой манере: безмерно далёкий от бытового реализма, режиссёр и здесь стремится ставить и решать прежде всего проблемы искусства, а не повседневности.
Театр Огарёва, утверждают критики, – это театр идей, и Достоевский для него подходит идеально. Ещё Бердяев писал, что всё творчество писателя «есть художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движение идей». Вопрос в том, чтобы найти для этого адекватную сценическую форму. Спектакль «Братья Карамазовы» решён в близкой режиссёру эстетике то ли сна, то ли галлюцинации. Недаром после особо «карнавальных» сцен, профанирующих и гротескно заостряющих реальные события романа, Алёша Карамазов зажмуривается и произносит: «Померещилось». «Мерещится» ему перестрелка Фёдора Павловича с Митей в келье старца Зосимы, драка Катерины Ивановны с Грушенькой и её отъезд к своему польскому офицеру, обставленный как настоящее шоу. В этом аду человеческих страстей Алёша задыхается, периодически шумно хватая ртом воздух, а порой и буквально лезет на стену. (Задник сцены впоследствии штурмуют и два других брата Карамазова, а потом и все персонажи, опьянённые каждый своей идеей.)
На то, что местом действия спектакля режиссёр замыслил некое метафизическое пространство, указывает нарочито размытый хронотоп. Зрителю хоть и сообщают о городе Скотопригоньевске, но не дают никаких его визуальных характеристик, кроме плана. Условно, неопределимо в постановке и время. Оно то стремительно ускоряется, то будто бы замирает, а маркером смены событий становятся лишь громогласные сообщения от автора («Алексей идёт по городу домой», «Иван в гостях у Смердякова») и надписи на заднике сцены («Смердяков и Марья Кондратьевна», «Зосима умер»). Невозможно понять, в какую эпоху происходит действие. И вот в этой аморфной огненно-страстной стихии, как в сказочном лесу, и бродит только что вышедший из монастыря Алёша Карамазов.
Роль Алёши Огарёв отдал Александрине Мерецкой, и это, пожалуй, самое спорное режиссёрское решение. Трудно отыскать какое-либо внятное объяснение этому гендерному перевёртышу. Алёша в исполнении актрисы отнюдь не бесполое эфирное существо. То, что ему слишком понятны «карамазовские бури», особенно заметно в пронизанной эротизмом сцене встречи с Лизой Хохлаковой и общении с Грушенькой. Кажется, Алёша вовсе не чужой в этой «весёлой преисподней»: слишком уж прагматично рассуждает о плюсах женитьбы на Лизе; слишком криво усмехается, читая её письмо; слишком вожделеет. Меньше всего он походит на «положительно прекрасного человека» Достоевского. Напрасно старец Зосима (у Огарёва больше напоминающий Лао-цзы) пытается приобщить его к своему учению – Алёша по-детски играет с палкой и нунчаками, а зелёный чай закусывает бубликом. Слова старца для него тоже звучат как китайская грамота – он повторяет их чисто механически, а после смерти Зосимы льёт бутафорские слёзы. Алёша ясно чувствует в себе карамазовскую стихию. В сцене нравственного самобичевания он словами армянского богослова Григора Нарекаци из «Книги скорбных песнопений» обличает «своих губителей»: суетное сердце, лжелюбивые уста, бесстыдно глядящие глаза и т. д. Однако, познав свободу греха и зла, Алёша, по замыслу Достоевского, всё-таки приходит к высшему состоянию. В спектакле же не совсем понятно, почему именно в этом герое, не совершившем ни одного хорошего поступка, режиссёр видит спасение и последнюю надежду для грешников; почему именно в его уста вложена басня о луковке, за которую ангел-хранитель чуть было не вытащил из огненного озера злющую бабу. (В романе, как известно, эту историю рассказывает Грушенька.)
Почти все остальные роли, кроме Алёши, в спектакле исполняют два состава, которые Огарёв попытался примерно уравновесить. Так, старшего из братьев – Митю Карамазова – довольно схоже играют молодые артисты труппы Николай Смирнов и Максим Симаков. На роль среднего – Ивана – поставлены более опытные Игорь Вакулин и Александр Беляев. Это имеет свой резон: рационалист Иван действительно кажется старше и мудрее непутёвого Мити. Именно на примере этого героя особенно заметно, как перемена состава может повлечь за собой кардинальные изменения трактовки образа, а то и всей концепции спектакля. Иван Александра Беляева – бунтарь и страдающий эгоист, постепенно осознающий, что является духовным виновником отцеубийства, и лишающийся рассудка из-за мук совести. Иван же Игоря Вакулина напоминает одного из «русских мальчиков», поймавших «минутку в трактире», чтобы порассуждать о «вековечных вопросах». В разговоре со Смердяковым он будто бы только притворяется, что не осознавал своих тайных помыслов, только разыгрывает ужас и ярость, поэтому его дальнейшее умопомрачение выглядит не вполне мотивированным.
Точен и убедителен Смердяков Кирилла Имерова – то инфернально притягательный, как мировое зло; то безобразно юродствующий, как мелкий бесёнок. Он не только внутренняя кара Ивана, но кара всего человечества за своеволие и богоотступничество. Не имея собственной «высшей идеи», Смердяков взял на вооружение чужую – зато уж, в отличие от иных «мыслителей», довёл до конца, претворил в жизнь и погиб, в буквальном смысле сожжённый ею.
Физический, выразительно-пластический каркас роли у артистов часто превалирует над её эмоциональным и духовным содержанием. Видеоряд, сопровождающий некоторые сцены, тоже никак не помогает раскрытию образов: часто он лишь иллюстративен, дублирует произносимый текст или происходящее действие. Если добавить к этому крайне невнятную фабулу (в постановке сохранены все основные сюжетные линии романа, но нет ни одной законченной истории), станет очевидно, что у тех, кто не читал или подзабыл книгу, спектакль вызовет массу вопросов: какое оскорбление наносит Катерине Ивановне её первая встреча с Митей? о каких замученных детках толкует Иван Алёше? кто такой Смердяков? чем всё в итоге заканчивается?
По свидетельству жены писателя, Достоевский «особенно ценил в “Братьях Карамазовых” Великого инквизитора, смерть Зосимы, сцену Дмитрия и Алёши (рассказ о том, как Катерина Ивановна к нему приходила), суд, две речи, исповедь Зосимы, похороны Илюшечки, беседу с бабами, три беседы Ивана со Смердяковым, Чёрта». Практически ничего из перечисленного в спектакль не вошло. Таким образом, из этой «аудиокниги с картинками», как именует постановку в самом начале голос автора, оказались изъяты очень важные для понимания, смыслообразующие фрагменты. Даже «проклятые русские вопросы» Достоевского – есть ли Бог? есть ли бессмертие? всё ли дозволено? – становятся лишь аудиорядом к изумительно прекрасному визуальному. Спектакль полон слишком тонких посланий и плохо поддающихся дешифровке символов, за которыми сложно обнаружить высказывание о духовной глубине человека, заявленную русскую действительность. Поэтому, когда в финале одетые в белое герои тянутся к свисающим с потолка луковкам, катарсиса, увы, не наступает.
Кажется, что, стремясь освободить классику от постановочных штампов, режиссёр сделал именно это своей основной задачей. В результате получился скорее лабораторный продукт: интересно разбирать, но очень трудно эмоционально подключиться.
А так хочется тоже ухватиться за луковку.
Фото Татьяны Шабуниной
Анна Кочергина – журналист, кандидат филологических наук.